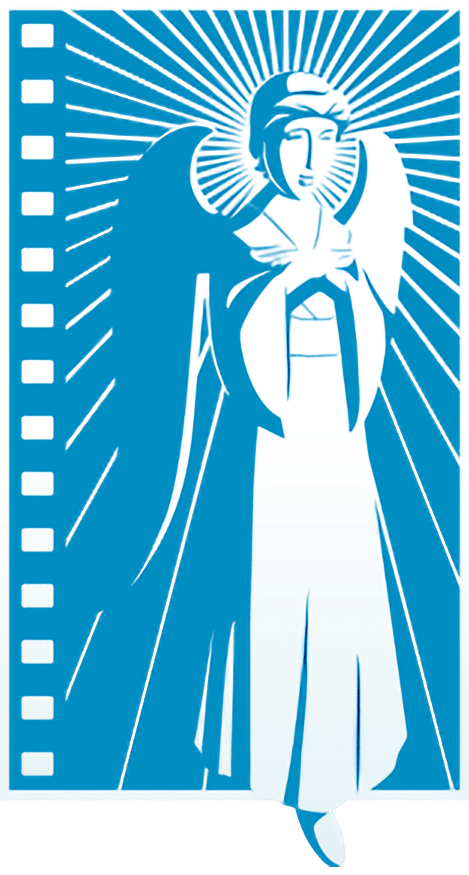В преддверии кинофестиваля «Лучезарный Ангел» состоялась наша беседа с филологом, культурологом, киноведом, кинокритиком, автором и ведущим телевизионных программ, специалистом по современному отечественному документальному кино, по истории отечественного кино, отборщиком документального кино на к/фестиваль «Лучезарный Ангел» Андреем Шемякиным.
– Андрей Михайлович, какое в целом у Вас сложилось представление о документальной кинопрограмме нынешнего кинофестиваля?
– В этом году мы работали очень долго, часть фильмов взяли с прошлого года, и поэтому важно было гармонизировать программу и построить ее таким образом, чтобы с одной стороны были разные тенденции, а с другой стороны, чтобы была видна эволюция фестиваля.
Есть фильмы, которые связаны с теми или иными святыми местами – это традиционно. Есть фильмы полуэкспериментальные. В этот раз участвует фильм, где документалист экспериментирует с приемами: чего можно, чего нельзя, его герой восстает против него, он сам уже снимает кино, хочет быть режиссером. И сам фильм, и дискуссия на эту тему – захватывает и заставляет нас задуматься над ответственностью документалиста, который в свою очередь ответственен перед своими героями. Но, как известно, нравственность искусства и нравственность суммы заповедей – вещи несколько разные.
Есть мораль взгляда – чего-то не показывать, чего-то с героями не делать, а есть просто номинальное отношение, что герои должны вести себя хорошо, но зритель всегда чувствует фальшь. Православная Церковь, как я понимаю, никогда не рисовала человека совершенно благим существом. Здесь наступает граница, на которой мы общаемся с экспертами нашего духовного совета, и я чувствую с их стороны очень большое доверие и понимание. Они могут в чем-то соглашаться со мной, в чем-то нет, спорить между собой. Но это залог того, что зрительный зал будет воспринимать наш диалог с той же степенью доверия и вместе с тем – с готовностью к спору.
В последние годы происходит совершенно новое явление на нашем кинофестивале: резко увеличилось количество людей, которые хотят предложить свои фильмы именно на кинофестиваль «Лучезарный Ангел». Это лишний раз говорит о том, что фестиваль обрел свою нишу и обретает свое лицо. Я думаю это от того, что здесь соединилась достаточная жесткость концептуального отбора – мировоззренческого, этического и максимальная широта эстетических поисков, которые не уходят за пределы, что иногда необходимо для кино, но не для зрителя.
Есть люди, которые навязывают нам свое кино, считая, что они за него борются, но по сути они занимаются чистейшей воды шантажом. Фестиваль – это как раз зона свободного диалога, а наш фестиваль, прежде всего, это – не гонка амбиций, а максимальное сближение жюри со зрительской оценкой.
– Можем ли мы говорить о том, что в советском кино присутствовала духовная составляющая? Прослеживается ли эта традиция в современном документальном кино?
– У нас участвует составленная мною ретроспектива «Зримая святость» – о том, как на советском экране, тем не менее, пробивалась и никогда не умирала духовная жизнь, и как присутствовали духовные ценности, может быть, даже вопреки господствующей тогда идеологии и во многом благодаря русской классике. И здесь важно еще то, что это нельзя безнаказанно присваивать. Когда ценности переворачиваются, а десять заповедей до поры до времени представляются с противоположным знаком: не «не убий», а «убий», но чтобы всем от этого было хорошо, это как будто искупает, передоверяет личную ответственность неизвестно кому. Но все равно, слово-то есть, и оно пробивается сквозь асфальт и рано или поздно мы получаем фантастические результаты. Поэтому считать, что советское кино было искусством повального атеизма и безбожия, конечно, нельзя.
Рано или поздно ты приходишь к неразрешимым противоречиям внутри той системы мировоззрения, которую тебе предлагают, это лукаво называлось диалектикой, но деваться-то было некуда. И вот происходили эти прозрения, прорывы, выход в другую реальность, а далее внезапно мы получали традицию покаяния, хотя она еще без Бога, но все равно уже что-то пробуждается в человеке. Нельзя сказать, чтоб эта традиция просто продолжилась, а скорее это как в фильме «Андрей Рублев», когда Бориска отлил колокол, а папаня-то ему, оказывается, секрет не передал. А с другой стороны мы понимаем, что в реальности была и тайная катехизация, и народ никогда не забывал Христа.
В нашей конкурсной программе я особенно дорожу картинами, где есть мировоззренческое движение. Понятно, что не надо, с моей мирской точки зрения, добиваться тотального воцерковления. Но наш фестиваль открытый и благотворительный, его смотрят дети и взрослые. И дело не во внешней постановке, допустим, чтобы не звучало мата в фильмах. Возможно, раньше спокойнее относились к обнаженной натуре, если она вдруг мелькнет в кадре, но сейчас наши эксперты стали пожестче. Но это ни о чем не говорит, потому что смысл только в том, что вообще на экране. И вот здесь я увидел бесконечное разнообразие точек зрения на произведения искусств, потому что документальное кино пытается быть искусством, стало быть, трансформирует реальность, которую видит. И здесь мы можем сказать, что всегда, как только мы ставим камеру, мы вмешиваемся в жизнь. Вмешиваться можно по-разному, и в этом смысле как раз этика документалиста сродни этике физиолога-антрополога, только в сфере духовной. То есть: не подставлять своего героя, не играть себя, не лезть вперед батьки в пекло. В этой сфере у нас, конечно, возникали дискуссии, они не могли не возникнуть.
– Если девиз фестиваля «Доброе кино возвращается», то надо понять, а где это добро брать?
– Из души. Я всегда замечаю, и когда снимаю собственные фильмы, что если ты вкладываешь, тебе обязательно ответят. Это взаимообратный процесс. Надо себя тратить, тогда получится. Это банально, но это каждый раз конкретно. Можно вкалывать и напрягаться до ужаса, но тогда будет крик на экране, а любви не будет. Поэтому я дорожу фильмами, где как раз есть контакт со зрителями на первичном уровне.
Что касается экспериментов с киноязыком, наши эксперты оставили такие фильмы либо за пределами конкурса, либо в спецпоказе. У нас была одна картина, которая показывала обретение себя не то, что бы в другой конфессии, но в другом мировоззрении – очень сложная поисковая, безумно интересная работа. Мы предложили показать ее в спецпоказе, вне конкурса, но авторы отказались. Просто я – за то, чтобы на фестивале были ниши для показа всего, что соответствующим образом объявлено из экспериментального сложного авторского кино.
Если раньше фестиваль был все таки тематический, преимущественно на тему церкви и вокруг нее, то сейчас совершенно очевидно, когда фестивали стали единственной формой проката, что смысл в том, чтобы заявить эту концепцию уже активно, потому что на один и тот же вопрос можно ответить как радикально, так и консервативно, смотря что за этим стоит.
До некоторых пор у нас торжествовал кинематограф, который прежде всего был критичен, а где-то и забывал человека, то есть человек был нужен как инструмент для того, чтобы сказать все ужасное, что он думает о жизни. Но отворачиваться от этого не стоит, а нужно найти ответ на те же вопросы, или перепоставить вопрос. Мы либо начинаем диалог, либо отворачиваемся от него, а по определению Церковь не отворачивается. По определению, каждый, кто готов с Церковью разговаривать, он так или иначе получает ответ. Я очень хочу, чтобы было такое кино, которое ставит вопросы по другому и отвечает по другому. Потому что мы прекрасно понимаем, что жить достаточно тяжело, и дело даже не в социальных проблемах, а в состоянии наших умов и нашего Отечества. И когда все время подталкивают, это не всегда верно.
Тот факт, что есть игровое, анимационное и документальное кино формирует отдельное кинематографическое пространство, где авторы представляют то, что они думают. Документальное кино не то что более элитарно, но оно как раз для той аудитории «Лучезарного ангела», которая в состоянии прочитать авторское послание. Дальше – можно не соглашаться. Но я настаиваю только на одном: необходимо изначальное доверие художнику. Поскольку в целом мы продолжаем жить в ситуации, когда существует «антропология недоверия», как говорят искусствоведы и философы культуры, мы изначально опасаемся, что нас обдурят, анализируем экран на предмет скрытой идеологии. Мы утратили ощущение контакта. Возможно, мы стали более защищенными, но это ощущение человека в противогазе.
– А как не защищаться от той агрессии, которая идет с экранов телевизоров?
– Все правильно.
Сейчас разговаривать по принципу «Встань, человек!» не стоит, потому что неизвестно, на что поднимут человека. А вот протянуть руку, сказать ему, что он не один, напомнить о великих образцах искусства, просто поделиться своими ощущениями – сегодня это очень дорого. Сегодня зритель идет в кино, чтобы найти не столько единомышленников, сколько сочувственников.
У нас участвуют: фильмы-путешествия, фильмы-открытия, исторические, фильмы, которые направлены от сердца к сердцу: либо исповедь автора, либо исповедь героя, фильмы, которые призваны обратить внимание на те или иные социальные проблемы и здесь диалог с чисто протестным кино очень важен, по крайней мере, как альтернатива, и, наконец, фильмы поисковые, экспериментальные, которые в этом году заняли скромную нишу.
Фестиваль рассчитан как для зрителя, который просто пришел в кино, так и для тех, кто готов обсуждать это кино на самом высоком профессиональном уровне.
– Над чем Вы сейчас работаете?
– Я сейчас начинаю делать фильм о маме, о ее родне, о том, что она мне рассказывала про свою родину Алтай. Мой отец умер, когда мне было пятнадцать лет, а мама, которая была полупролизована, ушла вслед за отцом, через месяц… Я простил ее только тогда, когда сам достиг ее возраста – она умерла в 52 года. Так вот важнее всего – открытие своего внутреннего мира, а я в данном случае совершенно беспощаден к себе. Очень важно, чтобы человек научился быть с людьми и наедине с собой. Потому что у нас порой получается, что коллектив берет на себя роль Бога, и оценивает нас, как, помните, разбирали отношения мужа и жены на партсобрании. В нашем кино не хватает эмоционального движения очень близкого к психотерапии.
– На днях мы записывали беседу с председателем Духовного экспертного совета кинофестиваля «Лучезарный Ангел» отцом Владимиром Волгиным. Он заметил, что в последние годы создается много фильмов, в которых вроде бы нет ничего безнравственного, но в них такая беспроглядная тоска, которой он сам не может дать определение.
– Режиссер должен быть над материалом. Очень часто фильмы несут в себе тот ужас, который не надо показывать, а режиссер показывает любой ужас, если он собой не владеет, если себя изжил. Режиссер не должен прийти в конце к какой-то догме или хэппи-энду, но он должен понимать, что зритель не обязан ему верить. Лучшие качества нашего народа возникают в беде. И в нынешних бедах не надо срочно объединятся вокруг кого-то, а надо понять, что на дворе время изменилось: вчера можно было не обращать внимания на доброе слово, не верить человеку, а сегодня вот это – от сердца к сердцу – необходимо. Это нельзя сымитировать, а признаться, что это ампутировано, очень страшно.
Я согласен с тем, что сказал отец Владимир. Он устал от этой тоски, я тоже устал. Но мы ищем выход. Ведь помимо этого есть еще что-то.
– Может ли современное кино расположить человека к святой жизни?
– Очень хороший вопрос. Можем ведь показать от противного. Во времена моей юности лучшее в кино никогда не было высокомерным, не было мнимо, фальшиво демократичным, то, что потом стало имитироваться на Телевидении как подделка под народ. А нужно внимание, солидарность в беде, взаимопонимание: «Ну мы-то с тобой понимаем, что и как. Давай, держись»… То, что было у Шукшина, у Тарковского, у Климова. Там больше эксцентрики было, но все-таки. Мне внутренне всегда был чужд ригоризм. Некоторые считали, что в картине Ларисы Шепитько «Восхождение» есть некие подмены. Там герой идет на Крест не потому, что он жертвует, а потому, что все остальные – мелочь, все остальные – слабые, все остальные – предатели. Об этом писала кинокритик Елена Стишова еще в журнале «Искусство кино» за 1977 год. Фильм снят в хроникальной манере и стиль во многом заимствован у Алексея Германа «Проверка на дорогах», чего Алексей Юрьевич так и не простил Ларисе Шепитько.
Нам не хватает той солидарности, которая великолепно выражается в финале фильма «Проверка на дорогах», которого, кстати, не было, а начальство попросило добавить. И Герман добавил, так сказать, изнутри, поскольку не мог никогда себя насиловать. Вот эти слова Ролана Быкова, которому на днях исполнилось бы 85 лет: «А ну давай, родненькие!»… От них перехватывало! Именно этого сейчас и не хватает нам.
И еще меня всегда сильно смущало желание насильно переделать человека, что влечет в духовный плен. Причем самые сильные возражения идеологии были от писателей: от Достоевского. Вспомните легенду о Великом Инквизиторе.
– Получается, опять мы наступаем на те же грабли формализма…
– Либо у нас есть исторический опыт, либо мы действительно невменяемы. Но я в это не верю. Когда люди были в полном отчаянии, и казалось, что все пропало и дальше уже ничего не будет, что-то же возникало.
Я сейчас попробую ответить на вопрос: чего я ищу в искусстве? Два года назад мы снимали в Толедо. А испанцы свою живопись «Золотого века» почти не дают на выставки, зато в Мадриде каждый день бесплатно с 6 до 8 часов работает музей. Мы знаем, как влияет пространство на наше восприятие. Галерея, где Рубенс, Тициан, Веронезе – полна света. Вы входите – и вас захватывает – это уже почти кино. Там представлены итальянцы и фламандцы, а испанская живопись «Золотого века» (т.е. XVII-го) была в маленьких комнатах, на каждого художника – по комнате. И там чувствуется колоссальная концентрация духовной энергии.
Мой отец больше всего полюбил Сурбарана и был им потрясен. У этого художника есть картина, где святому Доминику, который тихо молится, вдруг является святой Петр, распятый вниз головой. И утешает его. Очень важно, что в этих картинах нет титанизма, а есть очень большая духовная сила.
Есть картина Эль Греко, где Андрей Первозванный и Франциск Ассизский – оба высоченные – остановились поговорить. Какая-то маленькая твердь под их ногами, небо – с легкими облаками специально не прописанное. И вот они стоят: у одного крест под мышкой, как посох, на котором его потом распяли, у другого стигматы – раны от гвоздей на руках… 14 веков прошло. Поговорить остановились… Вот это для меня и есть – христианская традиция. Ощущение такое, что это было вчера. Так должны научиться режиссеры разговаривать со своим зрителем.
Мы все зациклены на травме разрыва, не помним вчерашнего дня. Я поэтому и снимаю фильм о родителях, это – живая память. И пока не восстановлена связь времен, даже при всей драме, когда не все поняли еще – кто за кого, мы не можем пойти дальше. Фальшивое единство никому не нужно, а вот нужно состояние, когда Вы можете руку протянуть, спокойно поговорить с предком.
– То есть, путь к святости начинается с искренности?
– Абсолютно точно. Для начала надо попробовать не врать себе и желательно не врать другим. Сначала в своих побуждениях, а затем – в своих поступках. Тут наша литература дает великую школу. Но меня по-прежнему тревожит, что от нас совершенно отрезана допетровская эпоха. В «Серебряном веке» ее только начали открывать – открыли икону (Игорь Грабарь был этим потрясен). В пушкинское время было открыто «Слово о полку Игореве». Наверное, единственное, в чем Пушкин был не прав, – это когда он сказал, что под одинокой вершиной простиралась пустыня словесности. А в XVI–XVII вв. – «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, «Повесть о Горе-Злосчастии» – это полноценная психологическая проза, мощнейшая, удивительная. Если евреи – народ книги, то мы – народ слова. У нас все проходит через слово: молитва, былина, песня – что-то совместное.
А что касается тоски в фильмах, о которой сказал отец Владимир Волгин… Василий Розанов говорил, что все русское печально. Печаль – она светла, а уныние – это грех, потому что – безысходность. В любой сфере деятельности можно двигаться к свету. Сегодня зря навязывается важность того, сколько народа тебя слышит. Мне важнее, чтобы слышал один. Тогда и другие придут.
Беседовала Ирина УШАКОВА